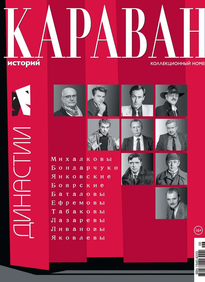ТОП 10 лучших статей российской прессы за May 13, 2025
Мария Порошина: «Я сумела совместить съемки, хотя однажды трое суток пришлось не спать»
Автор: Инна Фомина. Караван историй
«Людмила Владимировна Ставская взяла меня за руку, а я на тот момент чувствовала себя как слепой котенок, который тыкается и не знает, куда идти, и водила по сцене, показывала, разъясняла. В итоге столько в меня вложила, что я не просто сделала замечательный этюд, а обрела веру в себя. Когда педагоги спрашивали: «Кто следующий показывает этюд?», первой поднимала руку: «Можно я!» Мне даже говорили: «Маша, подожди, дай другим выйти!»
— Мария, мы встречались с вами больше года назад. Что нового произошло в вашей жизни?
— Нового много! И кинопроекты, и домашние события, так что скучать не приходится! Ведь одних дней рождений детей мы отмечаем целых пять. Первым в календарном году поздравляем Андрюшу — 11 января ему исполнилось шесть лет. У нас вообще получается «ударный» январь: празднование Нового года плавно перетекает в Рождество — мы с детьми стараемся обязательно побывать на ночной службе, вместе готовим рождественские яства. А потом — день рождения сына.
— Что Андрей у вас попросил в подарок?
— Он у нас парень скромный, мечтает о незатейливых вещах. Например, в письме Деду Морозу, которое Андрюша пишет, а потом кладет в морозилку, чтобы оттуда послание забрали олени и по небу отвезли адресату, может попросить многоцветную ручку или шахматы. Самое же любимое для Андрея — это игрушки-развивашки. У него, по-моему, технический склад ума, при этом ему нравится музыка, он занимается с педагогом. Сын ходит в кружок, где дети изучают разные технологии. Особенно Андрюше нравятся разработки, связанные с электричеством: он собирает цепи, какие-то открывающиеся двери. Возможно, сын в будущем станет инженером — хоть кто-то приличный в семье будет... (Смеется.)
Так вот, про подарки: я вообще стараюсь сильно не баловать детей — все должно быть в меру. Конечно, когда дочки подрастают, им необходимо что-то модненькое, красивенькое. Вот тут уже нельзя отказать, но речь никак не идет о люксовых, дорогих вещах. Девочки знают, что детей в семье много. Я выдаю им карманные деньги порционно, на определенный срок. Если они их быстро на что-то потратят, значит, следующие дни им придется обойтись без наличных и подождать. Все просто.
— Чем вас удивляет сынок?
— Перед сном мы часто играем с ним в ассоциации. И Андрюша иногда ставит меня в тупик своим необычным, философским взглядом на мир. Недавно очень долго не могла догадаться, какое явление на букву «х» он для меня загадал. Андрюша уточняет: «Это живое». Начинаю перечислять животных на букву «х», а он: «Да нет, мама, это человек, только это.. . не человек. Но он живой, понимаешь?» Не могу понять, о чем идет речь. Наконец Андрюша выдает подсказку: «Это сын Бога!» Меня осеняет: «Христос?!» — «Да!»
А прошлым летом в выходные мы выбрались в наш загородный дом, который строится уже 17 лет. В какой-то момент в комнату залетела бабочка. Говорю Андрюше: «Ой, посмотри, это душа твоей бабушки, моей мамы, которая так любила этот дом, так старалась его обустроить, сделать уютным, чтобы мы все вместе могли здесь отдыхать. И вот сейчас она рядом с нами: ее душа радуется, веселится». Сын тут же спрашивает: «Мама, а мы бабушку увидим?» Говорю: «Конечно, мы все обязательно встретимся. Только попозже, когда придет время». — «А как же мы ее узнаем?» И вот что тут ответить ребенку? Я сказала: «Бабушка тебе сама подскажет...»
— Уточните: а когда планируете достроить дом?
— Как сказал мой знакомый, пока не повесишь шторы и картины, стройку нельзя считать завершенной. Вот у нас занавески есть не во всех комнатах, кое-где не хватает люстры или мебели. Но самое главное, что туда уже можно приезжать и жить — и летом, и зимой. А декор потихонечку соберется.
Недавно была на гастролях в Первоуральске. Зашла после спектакля поужинать в кафе и вдруг замечаю там потрясающие натюрморты маслом. Картины буквально светятся — как вода, чистые и свежие! Спрашиваю: «Откуда? Кто автор?» — «Это наша местная художница». — «Умоляю, позвоните этой женщине: может ли она сейчас показать мне какие-то свои картины?» — «Уже поздно, наверное, она спит». — «Хотя бы напишите ей сообщение, потому что завтра в 11 часов утра мы уезжаем из вашего города!..»
В итоге художница подъехала и я приобрела у нее прекрасные картины. Теперь смотрю на них, и у меня настроение поднимается. Кстати, у художницы и муж потрясающий: он инженер, придумал какое-то изобретение, которое не дает ржаветь металлу, занимался золочением куполов храма Христа Спасителя...
— Мария, у вас большая семья — сын и четыре дочки. И при этом вы очень много работаете. Один из киносайтов указывает, что вы снялись в 101 фильме и сериалах. Значит, уже был ваш юбилейный, сотый проект! Вас можно поздравить.
— Надо же! А я не курсе, потому что учет ролей и фильмов не веду. Вот моя мама, которой нет уже пять лет, все фиксировала — ей, наверное, это было приятно и интересно...
Мама вообще сыграла очень важную роль в моей профессиональной судьбе. У нее было и актерское, и режиссерское, и музыкальное образование, и она часто помогала мне готовиться к пробам, мы с ней разбирали мои роли. А еще мама фиксировала на видео мои спектакли. Надо бы эти записи поднять, посмотреть. Но руки все не доходят. Если выдается свободное время, то, конечно же, проведу его с детьми, вникну в их дела, проблемы, успехи, а не буду доставать «с антресолей» пленки своих спектаклей и пересматривать их. Впрочем, не пленки, а диски, потому что моя дорогая мамочка все оцифровала.
Она записывала мои спектакли с того времени, когда я поступила в Щукинское училище. А у нас были потрясающие студенческие постановки! Люба Тихомирова до сих пор вспоминает «Гедду Габлер» — ее у нас поставил Михаил Дмитриевич Мокеев, ученик Олега Николаевича Ефремова (она тогда училась на первом курсе, который по традиции помогал старшекурсникам: ставил декорации, гладил костюмы, занимался гримом). Посмотреть этот спектакль собирался весь институт, приходило много студентов и педагогов из других театральных училищ. К слову, я до сих пор помню, как мы — Олег Кассин, Кирилл Кяро, я, Максим Аверин, Ольга Баландина, ныне звезда в театре Анатолия Васильева, Настя Медведева, прима на нашем курсе, сейчас занимается воспитанием детей, — мучились, точнее переживали, потому что не могли справиться с задачами, которые нам ставил Михаил Дмитриевич.
В 80-х годах Мокеев поставил «Эмигрантов» Мрожека...
— Я читала, что этот спектакль имел колоссальный успех, стал театральным событием.
— Да! Я выросла в театральной семье, видела много постановок. Но именно после того, как посмотрела тех «Эмигрантов», решила поступать на актерский факультет. Прошло столько лет, а я до сих пор помню этот спектакль...
А лет через десять после «Гедды Габлер» с Михаилом Дмитриевичем встретились снова. Он стал режиссером спектакля «Великолепный мужчина», который мы с Александром Балуевым играли более 15 лет, объездили всю страну. Так что Мокеева считаю один из моих учителей в актерской профессии.
Мы начинали с ним репетировать еще одну постановку, но тогда не случилось. И я все надеялась, что, может быть, на старости лет как-то объединимся и сделаем что-то серьезное и интересное. Ведь у Михаила Дмитриевича было очень неординарное мышление, он всегда придумывал «болевые места», когда актер неожиданно выходит «за границы». Заставлял работать на разрыв, расти, раскрывал в актере что-то новое, а это очень ценно! Но совсем недавно он умер. Когда узнала об этом, расплакалась — так было больно...
— Вы поражаете не только количеством кинопроектов. Они еще ведь и разные по жанрам. Например, недавно прошедший на канале «Россия» сериал «Княжна милосердия» — исторический...
— Перед тем как открыть сценарий, который написал Юрий Ненев, я подумала: как сложно сейчас передать то время — 80-е годы XIX века, как непросто с полным погружением в это время написать историю, способную увлечь современного зрителя. И вдруг, начав читать текст, понимаю, что хотя хочу спать, просто нет сил, но — не могу остановиться! За один присест проглотила сразу четыре серии, потому что мне стало интересно, что происходит с героями, какая в то время была жизнь, традиции, как люди разговаривали. А для меня очень важно, чтобы я верила персонажам, была абсолютно увлечена происходящим.
Да, я всегда проверяю сценарий на себе. Если начинаю читать и вскоре останавливаюсь, откладываю на потом — значит, чего-то в тексте не хватает. Может, слишком медленно развивается интрига, может, мало конкретики. Ну разные бывают сценарии. Ведь надо не просто придумать историю, а расписать диалоги, уметь выписывать драматургию в каждой сцене. Это же очень сложно! Многим кажется, что сценарий написать легко: взял и придумал. Ничего подобного, тут нужен талант.
Вот недавно по телевизору показывали старый советский фильм «По семейным обстоятельствам». Я, занимаясь домашними делами, мельком его смотрела. И обратила внимание, как мастерски написана история: в каждой сцене что-то происходит! Вижу, что артистам там не нужно что-то придумывать, пыжиться, делать больше того, что есть в сценарии. Просто играют текст и ситуацию, и они прекрасны.
А если такой драматургии нет, артисту приходится самому изобретать какие-то приемы, шуточки — «оживлять» историю, лишь бы как-то увлечь зрителя. Да, при плохом тексте сценария надо играть сверх него. И в таком случае грустно становится. А в «Княжне» все замечательно написано. И еще в этом проекте все отлично организовано, видно, что съемкам предшествовала большая подготовка.
— Для вас этот проект особый, потому что вы очень редко появляетесь на экране в исторических фильмах.
— К сожалению, да, хотя историческое кино мне очень нравится: в нем, как в фантастике и сказках, ты уходишь от реальной жизни, а это так любопытно! Но до «Княжны милосердия» подобная роль у меня была более 20 лет назад! В сериале Владимира Хотиненко «Гибель Империи» мне досталась небольшая роль бомбистки. А главная была у Александра Балуева, с которым в «Княжне милосердия» мы сыграли супружескую пару.
И уже тогда я убедилась, как важны для меня исторический костюм, прическа. Кто-то из актеров идет от внутреннего к внешнему, а кто-то, как я, — наоборот, от внешнего к внутреннему. Исторический костюм — это «внешнее», но очень помогает в создании образа. Он дает определенную пластику, походку. А еще осанку! К слову, в театральном училище педагоги постоянно напоминали, чтобы у нас были прямые спины. А сейчас в кино актеры не следят за тем, чтобы не сутулиться в кадре. На это, по-моему, вообще никто не обращает внимания. Но осанка ведь так важна для создания образа, и корсеты в «Княжне милосердия» как раз помогали мне в этом, моя героиня ведь не просто дворянка, а княгиня. И конечно, очень важна речь!
— А насколько легко вы привыкли к корсетам?
— Это весьма неудобный предмет гардероба. Недаром в свое время женщины часто падали в обморок из-за недостатка кислорода от такой «утяжки», которая формировала фигурурюмочку с тонкой талией. Носить его, сидеть в нем неудобно. И когда можно было от него наконец избавиться, я испытывала облегчение.
Но надеть или снять корсет очень непросто и долго. У нас же были именно ленты, как и положено, максимально достоверно с исторической точки зрения — не молнии, крючки или пуговицы. А обед небольшой — сорок минут, иногда час. Мне было жалко занимать личное время костюмеров, им же тоже надо было перекусить. А девочки жалели нас, актрис, и все равно всех раздевали, чтобы мы могли вздохнуть свободно — в буквальном смысле. Прекрасно поработали на проекте постижеры. Когда они шили нам парики, то долго подбирали цвет, идеально подходящий под образ, а потом соединяли все это с костюмом. Очень скрупулезная работа! Когда видишь, как люди тщательно трудятся, как любят свою профессию, это воодушевляет. И тоже стараешься соответствовать. Например, я максимально следила за манерой произнесения, за голосом, чтобы не вылезала «современность»...
Очень хочется, чтобы у «Княжны» было продолжение, потому что это одновременно трогательная, трагичная, красивая и поучительная история. И там есть что дальше рассказывать. Когда с таким трепетом, любовью и талантом создается «картинка» — костюмы, образы, интерьеры, — то убеждаешься в одном: если в кино человек делает свою работу с любовью и выкладывается на сто процентов, все должно получиться!...
При выборе сценария для меня очень важно, чтобы в фильме была мораль, показывали героев, поведение которых достойно подражания. Чтобы и ты, и зритель подумал: «Боже мой, неужели есть такие люди, неужели такое возможно?» Возможно! Просто мы за мирским, житейским забываем, что есть заповеди, которые хочешь не хочешь всегда работают. Делай добро, помогай людям, не завидуй, не обманывай, не убий. И когда на экране эти истины показаны талантливо, наверное, кто-то и задумается, что за зло, за плохие поступки всегда предстоит ответить...
— Практически одновременно с масштабной исторической «Княжной милосердия» вы снялись в фильме «Бухта Тайцзи». Это совсем другое кино — авторская короткометражка, настоящая драма. В семье главной героини несчастны все, а она сама не может добиться правосудия и все больше скатывается в бездну безумия. Чем вас привлекла эта история?
— Прочитав сценарий, я сказала продюсерам: «Да, я к вам приду, потому что это очень интересно, трогательно и необычно — ни на что не похожее кино. А такое я очень люблю». Фильм сняла ученица Алексея Попогребского Саша Громова — утонченная девочка с ангельской, модельной внешностью. При первой встрече я подумала: «Боже мой, как же она будет руководить съемочным процессом?» И вдруг эта красавица очень четко расписывает то, как она видит фильм, как она все будет снимать, объясняет характер моей героини, других персонажей. Я поняла, что человек не просто обучен — он сведущ, он профи. Желаю этой девочке не впускать посредственное в свою жизнь, в свой тонкий талант...
— Впервые работаете в коротком метре?
— Нет! В 2002 году снялась у Вячеслава Росса в его вгиковской учебной работе — фильме «Мясо». Картина получила 27 премий на международных фестивалях! И ее до сих пор показывают во ВГИКе как пример хорошего студенческого кино. Снималась там вместе с юным Ваней Кононовым и Алексеем Маклаковым, который за несколько лет до этого переехал в Москву из Новосибирска (они с Россом — земляки).
Кстати, скоро снова снимусь в учебном кино — мне предложили очень трогательный сценарий. С удовольствием соглашаюсь на такие честные, интересные истории, когда дети (а для меня юные режиссеры — это дети) пытаются сделать что-то очень стоящее, настоящее.
— Знаю, что недавно вы еще снялись в фильме «Море на двоих», в котором очень непростой сюжет...
— Прочитав сценарий, я... засомневалась. Точнее, задумалась. Потому что там очень сложная тема — про детей с некими врожденными патологиями, например с болезнью Дауна. Задумалась не потому, что испугалась, просто хотела понять: как об этих непростых проблемах будут рассказывать, что режиссер хочет донести до зрителя? Оказалось, что такую тему можно рассказать тонко и с юмором — в жанре комедии!
Режиссер картины Владимир Рудак (он еще писатель, музыкант и путешественник) сам уже много лет передвигается в коляске. И он любит жизнь, обожает людей с похожими или ментальными проблемами — снял их в своей картине. Пообщавшись с Владимиром, мы все начали их любить, воспринимать иначе. Не жалеть, руководствуясь первым ощущением, а радоваться, что они есть, что у них прекрасное чувство юмора, что они снялись в настоящем кино.
А еще мы начали лучше понимать проблемы, связанные с воспитанием и уходом за больными детками, переживания их родителей. Когда издали наблюдаешь, как к ним приезжают волонтеры, общаются с ними, устраивают концерты, считываешь все как бы со стороны. А когда ежедневно общаешься с ребятами с проблемами по здоровью, работаешь вместе с ними, то понимаешь, что их нельзя изолировать от здоровых людей. Наоборот, надо интегрировать в общество!
Вот о таких непростых детках рассказано тонко, светло, красиво и с большим чувством юмора. В «Море на двоих» снялись прекрасные артисты Леша Лукин, Алина Дулова, с которой мы работаем в сериале «Родители», прекраснейший Ян Цапник. И мы все с удовольствием исполняли песни, которые для этой картины написал друг Рудака. В общем, замечательная и поучительная история, которая на многое мне открыла глаза.
— Вы упомянули очень успешный сериал «Родители», который снимается в течение десяти лет (его пятый сезон получил название «Родители родителей»).
— И все сезоны снимает мой любимый режиссер Александр Жигалкин. Он работает так тонко и легко, с такой любовью к артистам и с большим юмором, что съемки превращаются в праздник. Несмотря на то что условия иногда бывают непростыми.
Один сезон снимали жарким летом, в павильоне, в котором температура была выше 40 градусов: надо было срочно начинать работу, а свободного помещения с хорошим кондиционером в это время не было. Поэтому в перерывах все выбегали на воздух — подышать. И так всю 12-часовую смену. Но мы старались на это не обращать внимания и просто делать свое дело.
Над сериалом до сих пор работают одни и те же сценаристы. Они сумели создать историю, которую с удовольствием смотрят дети. А их родители очень рады, что могут оставлять ребят у телевизора, потому что на экране будет доброе смешное кино. Сейчас ведь в телефоне детям предлагают кучу такой информации, которую они не должны знать. И ребята входят туда, куда им никак нельзя. Конечно, родители должны четко следить за контентом. Но не всегда можно успеть усмотреть, заблокировать. Да, запрет — это иногда во благо. Дети не должны слишком рано взрослеть, должны находиться в детстве как можно дольше. В наше время таких проблем не было. Мы читали «Денискины рассказы», смотрели киносказки Роу — добрые поучительные истории. А теперь у меня порой сердце болит из-за того, какой ужас детки могут увидеть в интернете...
Продолжалась и работа над сериалом «Медиум». Это снова совсем другая история — детективная, мистическая и вместе с тем семейная. Мы все читали фантастику – книги Брэдбери, Беляева. В них авторам невероятным образом удавалось совместить с обычной жизнью что-то нереальное, таинственное. И в «Медиуме» все именно так. Обычно детектив — это «чистый» жанр, сама его структура понятна. А в нашем проекте расследование переплетается с мистикой и житейскими, бытовыми ситуациями, юмор — с печалью...
Вот сейчас вспомнила проекты прошедшего года и подумала: как же здорово встречаться с талантливыми режиссерами в разных жанрах. И с новыми, и с теми, с кем работаешь уже не первый раз и с кем радостно снова учиться, искать, пробовать — как с Еленой Николаевой, с которой мы вместе во всех сезонах «Медиума». А всего у нас уже пять совместных проектов!
— А самые первые свои съемки, первый фильм помните?
— Еще бы... В 1992 году меня пригласили в «АБВГД Ltd» (со мной снимались Антон Табаков, Ярослав Бойко, Гоша Куценко). Это был первый на российском телевидении молодежный сериал, снятый в форме телеколледжа. До этого подобные проекты практически не делали (редкое исключение — сериал «Мелочи жизни»). Так что это был революционный формат, никто не понимал, как снимать такие длинные телепроекты, это была «проба пера» и для актеров, и для сценаристов, и для режиссеров. Для всех!
Я стояла на учете в актерском агентстве на Киностудии имени Горького. Кто-то из помощников режиссера увидел там мое фото и позвал на пробу. История была милая, хорошая, и я с радостью согласилась — мне тогда было 18 лет, я рвалась в кино. А сериал — это же так необычно, интересно! К тому же тогда в кино царило безвременье, фильмов почти не снимали, работы для актеров было очень мало.
— Что испытали на тех первых съемках?
— Страх! Перед опытными актерами, например Авангардом Леонтьевым, это же замечательнейший мастер. Перед камерой. Меня поставили в кадр и сказали: «Не шевелись! Теперь поверни голову направо... Стоп, дальше не поворачивай — замри! Пригладь волосы. Да не чеши их сильно, потому что у нас пишется живой звук...» Прямо на площадке мне открывалась масса технических вещей, о которых не подозревала, учась в Щукинском театральном институте.
Когда репетируешь спектакль или отрывок, работа идет над ролью целиком и по накатанной: ты понимаешь, какие «рецепторы» и где включить. А в кадре для меня все было в новинку! Надо одновременно следить за всем: за каждым движением лица, за речью, за точкой, на которую должна встать. И ты работаешь над коротким кусочком, который отрепетировал и тут же сделал. Совершенно другие актерские техника, механика, к которым нужно привыкать.
Я все это помню. И сейчас понимаю молодых, неопытных артистов, с которыми встречаюсь на съемочной площадке, и стараюсь им помогать. Ведь ребята часто думают, будто могут что-то сделать, а у них получается не всегда удачно. Вот и подсказываешь. Однако в такой ситуации кто-то схватывает быстро, но по верхам. А кто-то теряется, долго не может сообразить, зато потом точнее работает. На площадке перед камерой происходит настоящая актерская учеба, когда надо разобраться со своей психофизикой и понять, как ты можешь с этим справляться. Потому что все артисты работают по-разному...
Мне в той ситуации очень помогла, подробно объясняла многие вещи Ольга Вихоркова, которая вместе с Юрием Беленьким была режиссером проекта (она, к слову, жена актера Василия Мищенко, они вместе много лет). Сейчас же, по-моему, так скрупулезно уже не работают. Вообще, каждый актер теперь отвечает сам за себя. Разбор роли — это твоя домашняя работа, ты должен прийти на площадку со сделанным материалом.
— Потом, после этой главной роли у вас был большой перерыв в кино. Почему?
— Потому что училась в Щукинском училище. А там студентам не особо разрешали сниматься, даже, можно сказать, запрещали. Только когда получила диплом, стала ходить по пробам. А в «АБВГД Ltd» снялась раньше — в тот год, когда уже ушла из Школы-студии МХАТ, но еще не поступила в Щукинское училище...
Потом у меня была маленькая роль в «Самозванцах» у прекраснейшего режиссера Константина Худякова. Чуть позже — более значительная в «Поклоннике» у Николая Лебедева. Оба мастера запомнились мне как очень талантливые люди с неповторимым взглядом, четко структурированным видением того, что и как они хотят снять...
Коля Лебедев в «Поклоннике» и мне и другим актерам очень подробно объяснял наши роли, долго репетировал, многое менял в процессе работы. Особое внимание уделял юной исполнительнице главной роли Марине Черепухиной. Он даже привлек специального актерского репетитора для детей, с помощью которого доносил до Марины то, что ей нужно делать. Режиссер сумел создать на площадке нужную атмосферу, и никто не мог ее нарушить! Коля умел держать некие границы, чтобы не было расхлябанности, шуток, внесения бытовой, суетной жизни, — только материал и только работа.
— До этого фильма вы уже работали с Николаем Лебедевым. Но в его режиссерском дебюте — «Змеином источнике» — только участвуете в озвучании, вашим голосом говорит героиня Екатерины Вуличенко. Почему?
— Там произошла интересная история. Я пробовалась на главную роль — ту, что сыграла Катя Гусева. А в итоге только озвучила героиню Кати Вуличенко.
— Она на вас из-за этого не обиделась?
— Нет! Когда мы сейчас с ней пересекается и вспоминаем этот фильм, она улыбается: «Маша, спасибо, что ты сделала все так хорошо. Я довольна!» А я ей отвечаю: «Катя, извини, что мне пришлось, но я очень старалась не испортить, сделать все максимально точно, насколько могла — шла по твоему рисунку...»
— А почему Вуличенко пришлось озвучивать?
— В то время у Катюши было грассирующее «р». Наверное, у Лебедева были сомнения по этому поводу. Вот и решил переозвучивать, чтобы был чистый звук «р»...
После у меня было много кастингов в разные интересные проекты, например в «Страну глухих». Но как-то не складывалось. Зато потом одновременно снялась в четырех: «Дневном дозоре», «Всегда говори «всегда», «Бригаде» и «Четвертом желании»!
В тот момент у меня не было агента (это сейчас даже у начинающего актера он есть). Не раз, когда пыталась свести четыре расписания, мне говорили: «Маша, ты что! Ты не сможешь совместить все проекты!» Но мне так нравились все эти сценарии, так хотелось сниматься, что я всегда отвечала: «Совмещу!»
И я сумела, хотя однажды трое суток пришлось не спать: днем снималась в «Дозоре», а ночью — во «Всегда говори «всегда». За это время не была дома, не прилегла на кровать: если было полчаса свободных, засыпала прямо на стуле. Зато смогла совместить все проекты — кроме одного эпизода. Но там не я была виновата.
— А кто?
— Все случилось из-за погоды, точнее, непогоды... В «Бригаде» должны были снимать сцену свадьбы — в Москве. В этот день я собиралась прилететь из Ханты-Мансийска, с другой картины — «Четвертое желание». Очень люблю этот новогодний фильм, где играю наглую артистку, звезду телесериалов, которая должна была встретить Новый год со своим женихом за границей. Но девушка опаздывает на рейс, садится на другой самолет, который оказывается в Югре.
А там героиня попадает в избушку Деда Мороза, затерянную в заснеженных лесах. Вот такая чудесная сказка с замечательными партнерами — Гошей Куценко, Сережей Астаховым, Мишей Тарабукиным, Сергеем Шеховцовым. Кстати, в одном из эпизодов мне и Гоше на головы должна была упасть огромная, специально подпиленная сосна. И она упала — ровно в пяти сантиметрах от наших голов! Спасибо каскадерам, которые не ошиблись, сохранили нам жизни, а ведь могли промахнуться, и тогда...
Так вот, в Ханты-Мансийске началась жуткая метель, самолеты не летали. Когда нашему прекраснейшему режиссеру Алексею Сидорову сообщили, что Порошиной на свадьбе не будет, он не растерялся: «Ну что же делать, раз так получилось. Мы сняли, как Тома собирается на свадьбу. А теперь придется объяснить, почему ее нигде не видно». И тут же придумал, что один персонаж говорит: «Тома немножечко выпила», другой «Томе стало плохо, она пошла в дамскую комнату». В общем, судя по их словам, моя героиня весь праздник провела где-то в туалете...
— Мария, вы очень популярная киноактриса. Но при этом не расстаетесь с театральной сценой — играете в нескольких антрепризных спектаклях. Кстати, не подсчитывали, сколько километров пролетаете и проезжаете за год во время гастрольных туров?
— Нет. Но, наверное, много. В моей гастрольной жизни случалось, что рано утром была в одном городе, днем с коллегами по антрепризным постановкам переезжала или перелетала в другой. А оттуда вечером, после спектакля, мы на машине перемещались в следующий «пункт назначения». (Переезды иногда бывают по шесть часов!) В итоге за один день побываешь в трех городах.
Конечно, организаторы стараются делать максимально удобную для артистов логистику, чтобы у нас было время отдохнуть. Ведь когда играешь на сцене, тратишь очень много энергии, нервов, сил, душевных ресурсов. Но если не жалеть себя, особо не акцентировать внимание на сложностях гастрольного быта, а настраиваться на работу, то все остальное в турах происходит замечательно.
— За эти десятилетия вы объехали страну «от и до», в некоторых городах побывали не по одном разу.
— Да, например на Байкале была раз пять. И каждый раз открываю его красоты заново, потому что повезло увидеть это потрясающее место в разные времена года. Осенью поражает буйство красок — охра, золото, багрянец, прямо как на пейзажах русских живописцев. Летом любуешься цветущей зеленью, ранней весной — пробивающимися через снег первыми ростками.
И конечно, поражает само озеро, вода в нем — это какой-то живой организм. Удивляют и ее красота, и чистота. Когда тепло, можно разглядеть дно через ее многометровую толщу. А зимой лед на Байкале не белый, а голубой. Мы рассекали по нему на надувных воздушных подушках с моторчиками. Был конец зимы, очень солнечный день, лед немного подтаял, и мы катались, поднимая фонтаны брыгз! У меня есть видео: Байкал, солнце, горы, красивый голубой лед и эти маленькие волны.
И люди там чудесные: открытые, радушные, очень доброжелательные, и это так приятно! Потому что в Москве, в ее суете каждый занимается своим делом, все бегут, бегут. А в таких местах время как будто останавливается. Ты успеваешь заглянуть в лица и подумать: «Как прекрасен человек, это же чудо, творение Божие! И каждый интересен...»
Я очень благодарна судьбе, что она дала мне шанс столько ездить, столько увидеть. И чем старше становлюсь, тем мне любопытнее узнавать что-то новое, углубляться в историю. Перед поездкой на гастроли изучаю в интернете места, в которых предстоит побывать, намечаю, что хотела бы посмотреть, какие музеи посетить. И многие мои коллеги так делают. И Александр Балуев, и Андрей Кайков, и Таня Абрамова, с которыми обычно и посещаю разные интересные места.
Как ни парадоксально, именно на гастролях у артистов появляется свободное время. Мы можем, например, посмотреть в кинотеатре новый фильм, чего в Москве часто не удается сделать. Мне особенно интересно видеть киноработы друзей: приятно наблюдать их достижения, творческий рост.
— А новые для себя места еще удается открыть?
— Конечно! В этом году у нас был гастрольный тур на Урал. И я просто в восторге от небольших городов этого региона. Например, от Невьянска Свердловской области, где, к слову, похоронен моей прапрадедушка. Этот населенный пункт, в котором сохранилась наклоненная колокольня, как башня в Пизе, был основан по указу Петра Первого для организации там литейного дела — русской армии было нужно много оружия. Вскоре литейный завод передали Никите Демидову, основателю знаменитой династии промышленников. И он так развернул свое дело, что Тула считалась оружейным «филиалом», а основное российское производство было там, на Урале.
То, как здесь пару веков процветала промышленность, я поняла, когда увидела храмы этого города. Они такие масштабные, красивые, с большими приделами. Смотрела на храмы и представляла, сколько людей тогда жили вокруг, работали на заводах. Углубляться в историю родной страны очень интересно.
Как и в историю своей семьи! Родственники со стороны отца у меня как раз со Среднего Урала, из Свердловской области — папа родился в городе Полевской. Я даже слышала, что среди наших предков были те самые Демидовы. Возможно, это просто красивая легенда, потому что документального подтверждения этому нет. Кстати, Полиночка, которая всегда увлекалась историей, мне как-то в шутку сказала: «Мама, а я от Рюриковичей произошла, ты просто не знаешь. Сейчас распишу тебе весь наш род». Дочь тогда смеялась. Но она была права в том смысле, что интересно было бы сделать наше генеалогическое древо. Считается, что люди должны знать своих предков «до седьмого колена» — семь поколений. Ну хотя бы четыре... Так вот, мои корни — из города Полевской.
— Вы там были?
— Конечно! В детстве меня часто привозили туда к бабушке и дедушке. А сейчас, когда бываю на Урале, стараюсь обязательно заехать к родственникам: там живет моя двоюродная сестра Юлечка с тетей Ирой — учительницей глухонемых деток.
Моих бабушку и дедушку, которых давно нет, в Полевском до сих пор помнят и уважают. Они много лет проработали педагогами: бабушка была завучем школы, преподавала русский язык и литературу, дедушка работал в гороно и в школе (вел физику и математику), а их дочь, моя тетя, была учительницей английского. Помню, когда маленькая приезжала туда из Москвы, меня поражало, что со мной все здоровались: «Ой, Машенька приехала, Мишенькина дочка». А я понять не могу: откуда эти люди меня знают?! Но в маленьких городах все друг с другом знакомы...
Я много расспрашивала папу про его род. А с его отцом, моим дедушкой, мы ездили на рыбалку. И он показывал мне места, связанные с Бажовым и его произведениями (этот замечательный писатель тоже родом со Среднего Урала — родился в городе Сысерти, где меня поразил величественный, красивейший храм). Сидим с удочками на берегу реки, и дедушка у меня спрашивает: «Помнишь сказку Бажова «Серебряное копытце»? Так во-о-н на той горочке волшебный козел высекал своим копытом драгоценные камни... А вон Синюшкин колодец, лесок, где Огневушка-Поскакушка скакала. А подальше — владения Хозяйки Медной горы...»
— И вы верили во все это?
— Да, лет до пятнадцати. А еще когда видела по вечерам огоньки, мерцающие далеко за городом, мне говорили, что это летают эльфы и принцессы. Чему я тоже верила! И вот дядя в очередной раз привез меня к бабушке. Я ему говорю: «Леня, ну что там эльфы, как там принцесса? Вот бы к ним заехать...» А он как засмеется: «Маш, да ты что, смеешься, что ли? Ты же взрослая девочка — какие эльфы и принцессы?! Те огоньки — это светится металлургический завод». Как же я тогда расстроилась! Именно в этот момент закончилось мое детство и я повзрослела...
— Вы очень ярко описываете свои путевые впечатления. Не пробовали писать?
— Путешествия, которые дарит мне профессия, те маленькие приключения, которые происходят на гастролях, конечно, достойны пера. И я понимаю, зачем Чехов ездил на Сахалин. Но только путешествовать мало, надо еще уметь красиво все описать, а я это не умею. Кстати, Антон Павлович недавно мне приснился. Я не раз говорила, что в театре мне хочется играть не только в комедиях, романтических и лирических историях, но и в классике. И первый в ряду авторов, о которых мечтаю, — Чехов. И вот я сплю и вижу Ялту — море, волны, улочки, дома с арками... И Чехова, который сидит за столом и что-то пишет. А потом вижу уже свой дом. В него вносят большую картину, потом вторую — маленькую, на которой изображены почему-то башмаки. Когда же холсты приложили друг к другу, они заиграли красивым перезвоном. И это было доказательство того, что это подлинники — личные вещи Антона Павловича, которые каким-то образом оказались у меня. Вот такой чудесный, невероятный сон...
— Какие места особенно любите посещать?
— Те, что связаны со святыми, их житием. И дело тут не только в моем интересе к истории. Бывает, что к святым местам тебя просто приводят ноги в трудные моменты жизни. Заходишь в какой-нибудь храм, разговариваешь с батюшкой, не обозначая свою проблему. И неожиданно он говорит абсолютно то, что ты ждешь, получаешь нужный ответ на сложный вопрос. Происходит чудо!
Однажды во время путешествия по Ленинградской области оказалась во Введено-Оятском женском монастыре — это родные места святого Александра Свирского. В тот момент у одного моего ребенка были проблемы со здоровьем. Бывают такие детские болезни, которые могут пройти бесследно, а могут остаться на всю жизнь. Тогда ребенок чувствовал себя нормально. Но было непонятно, отступила болезнь окончательно или вернется через какое-то время.
Мы подошли к маленькому, очень старому белокаменному храму, вокруг могилы. И вдруг я начала плакать — громадные слезы, как у клоуна, хлынули из глаз. Это была не истерика, не то что мне стало себя жалко. Нет, в меня вошла радость бытия, осознание, что жизнь со всеми ее печалями и испытаниями прекрасна! Я почувствовала умиление, огромную благодарность Господу, а еще покаяние за свои плохие поступки — ведомые или неведомые.
И тут я вижу, что стою у могилы старицы Евпраксии. Она пока не причислена к лику святых, но в прошлые века к ней приезжало множество больных людей, даже из Европы, чтобы попросить помощи в исцелении. Конечно, и я помолилась, попросила здоровья и своему болеющему ребенку, и всем близким. И что вы думаете? Чудо произошло, ребенок окончательно поправился...
В этом монастыре собирают свидетельства подобных случаев, даже висит объявление с просьбой рассказать, написать, зафиксировать такие истории. Очень хочу вернуться на это место, поблагодарить старицу и оставить свое свидетельство...
— Скажите, а вы всегда любили путешествовать? Или эта страсть у вас появилась с возрастом?
— Уже в детстве я мечтала ездить по всему миру. Мне так хотелось посмотреть, как в прошлые века жили люди: увидеть старинные дома и крепости, трогать камни на раскопках, рассматривать в музеях разные экспонаты. Я почему-то постоянно ощущала неразрывную связь времен, соединения прошлого, настоящего и будущего, всегда хотела понять, какие в разных эпохах были плюсы, какие минусы.
— А в каком самом необычном месте в детстве хотелось побывать?
— В Африке, хотя одновременно очень боялась оказаться там. По телевизору показывали, как там голодают дети, и я страшно переживала по этому поводу. Мне, советскому ребенку, октябренку и пионеру, казалось, что я должна как-то помочь этим нечастным ребятам. У меня и сейчас слезы наворачиваются, когда люди от чего-то страдают. Попасть в «зону страдания», увидеть несчастных людей — для меня очень тяжелый душевный момент.
Кстати, спустя много лет я побывала в Африке: на пять дней прилетела к друзьям на Занзибар. Они мне так расписывали местную природу, что я решилась. Увидела не только столицу, но и маленькие городки и деревни. Пейзажи там действительно удивительные, очень яркие. Люди живут по-разному — многие очень бедно, в скромных хижинах.
Но меня поразило, как местное население уважительно относится к учителям, с каким рвением подростки учатся. Дети даже из бедных семей ходят в белых рубашечках. Когда они по утрам бегут в школу такой нарядной процессией — это сразу создает особую, торжественную атмосферу. Ведь если правильно воспитывается подрастающее поколение, то есть надежда и уверенность в будущем.
— Детям ваш интерес к истории передался?
— Старшей дочке, Полиночке. В детстве она очень увлекалась античностью, прочитала все, что было ей доступно, про Древний Рим, про Древнюю Грецию. Помнила имена множества богов, мифы, связанные с ними. Я ей говорила: «Ой, как интересно, ну-ка поделись со мной». И она с удовольствием пересказывала мифы.
А потом мы смогли увидеть места, о которых Полина читала, воочию. Мы с ней посетили и Грецию, и Италию, и Турцию. Казалось бы, раз приехали на море, надо купаться и загорать. Но только валяться на пляже нам всегда было скучно. Мы сразу побежали на экскурсии, чтобы посмотреть руины храмов, амфитеатров.
И в первых рядах всегда была Полиночка, она бежала впереди экскурсовода! И я от нее не отставала. Помню, на одну экскурсию отправилась в босоножках. Мне говорят: «Маша, куда ты мчишься на каблуках? Здесь же крутые подъемы, булыжники, камни...» А я этого не замечаю, мне легко!
Когда видела развалины храмов, у меня возникало ощущение «машины времени» — то, что события прошлого происходят сейчас. Четко представляла, как вот на этой скамье сидели греческие философы, а в этом амфитеатре шло собрание древних римлян, а там кто-то идет в термы. Вот если бы мультик или фантастический фильм сняли на такой сюжет: человек прикасается к руинам и — раз! — перемещается на столетия и тысячелетия назад.
— Возможно, вас пригласят сняться в такой интересной истории! Скажите, при вашем колоссальном опыте в актерской профессии еще есть что-то непознанное?
— Конечно, и я до сих пор учусь... У каждого артиста свой путь, судьба по-разному складывается. Кто-то начинает рано и прямо с главных ролей, его сразу узнают на улицах. А кто-то стартует, как я: позже, медленнее.
На эту тему мы недавно говорили с талантливейшей Марианной Шульц, примой Театра Олега Табакова, которая сейчас активно снимается, и я очень рада за нее. Марьяна сказала: «Мое время в кино пришло, когда мне было под сорок...» Так что судьбы разные. Главное же — честно, с любовью делать свое дело, не оглядываясь ни на что и ни на кого, совершенствоваться, набираться опыта. И даже иногда идти учиться.
— Учиться?! Вам?!
— А почему нет? Мои подруги чуть помладше меня ходят на занятия с актерскими коучами. Раньше было модно учиться по американской системе, в Россию приезжало много педагогов. А теперь таким дополнительным образованием для профессиональных актеров занимаются наши прекрасные отечественные мастера — из Щепкинского училища, из Щукинского, Школы-студии МХАТ, ГИТИСа. И к ним стоит очередь!
— Зачем нужен коуч уже состоявшемуся актеру?
— Такой учитель открывает в уже зрелых артистах новые грани, что очень важно. Я после окончания института говорила своим педагогам: «Можно, я буду возвращаться, чтобы поучиться у вас?» Иногда хочется, чтобы кто-то из мастеров посмотрел твою работу, сделал замечание, подсказал, что верно, а над чем надо поработать. Потому что взгляд со стороны мне необходим.
Думаю, что у любого актера процесс обучения и познания себя бесконечен. Просто есть артисты, которые сами выстраивают себе роли, могут очень лихо существовать в любом формате — будь то очень быстро снимающийся сериал, серьезное авторское кино, дипломная работа или выступление на сцене с симфоническим оркестром. Он может себя распределить, работать в разных жанрах и чувствовать себя прекрасно. А кому-то, как мне, очень нужна поддержка и помощь — режиссура.
— А сами себя в роли педагога не видите?
— Пока нет... Дело тут не в возрасте. Вот в моей Полине, несмотря на ее молодость, уже проявился педагогический дар. Она у меня прекрасный рассказчик, в компании умеет увлечь, объединить людей: берет в оборот даже тех, кто боится или стесняется. Благодаря ей люди азартно начинают что-то придумывать, раскрываются. Знаю это, потому что Полина очень любит настольные игры на развитие логики, внимания, мышления. У них собирается большая компания — человек по двадцать. И там не только артисты, но и режиссеры, и банковские работники, и администраторы... Так вот, как педагог Полина себя уже проявила. Пять лет преподает актерское мастерство в одном учебном заведении. А с недавних пор стажируется в Щукинском училище — родном и для меня, и для нее. Вижу, что дочь очень хорошо знает нашу вахтанговскую систему и умеет это преподнести: рассказать, объяснить, обаять, заинтересовать, потребовать. И помочь, потому что процесс обучения актера — это очень непросто...
— А у вас во время учебы были сложные моменты?
— Еще бы! У меня были большие проблемы с этюдами. Случился какой-то ступор: я просто не понимала, что и как делать. Со слезами на глазах чувствовала, что закрываюсь, захлопываюсь, а ничего изменить не могла. И уже теряла всякую надежду, что когда-нибудь что-то получится. И тут мне помогла Людмила Владимировна Ставская, которая однажды сделала со мной этюд. Она взяла меня за руку, а я на тот момент чувствовала себя как слепой крошечный котенок, который тыкается и не знает, куда идти, и водила по сцене, показывала, разъясняла. В итоге столько в меня вложила, столькому научила, что я не просто сделала замечательный этюд, а обрела веру в себя. Когда педагоги спрашивали: «Кто следующий показывает этюд?», первой поднимала руку: «Можно я!» Мне даже говорили: «Маша, ну что такое! Подожди, дай другим выйти». А ведь до этого панически боялась вот так пойти на сцену и показать себя. Но Людмила Владимировна как будто ключик ко мне нашла.
А Людмила Сергеевна Ворошилова научила меня играть Островского: рассказывала о его эпохе, о процессе написания пьес. Сейчас она работает вместе с Максимом Авериным, который набрал в Щукинском театральном институте свой первый курс... Наши педагоги первые два года без устали, подробно разбирали с нами вахтанговскую систему. А потом уже ждали, чтобы мы воплотили эти знания в своей игре, будь то отрывок, или заявка на спектакль, или музыкальное наблюдение.
— Чего от вас в первую очередь требовали педагоги?
— Чтобы мы были точны и не допускали пошлости — за этим очень строго следили. К слову, пошлость очень легко проявляется в уровне юмора, этой лакмусовой бумажке актерского воспитания и профессионализма. Недавно увидела на экране семейный, домашний сериал, в котором участвуют дети, но с пошлым юмором, скабрезными шутками. Наши педагоги учили, что в таких проектах нельзя участвовать, на такой плохой материал не надо соглашаться. Либо надо пытаться как-то исправлять сценарий, но это обычно вряд ли возможно...
— Фаина Раневская называла плохое кино «плевком в вечность», потому что он остается на пленке...
— Да, сказано точно. И, наверное, нам, актерам, надо почаще это выражение вспоминать... Худрук нашего курса Марина Александровна Пантелеева была очень интеллигентной, очень начитанной и эрудированной женщиной. Она работала в Ленинградском театре комедии у режиссера Николая Павловича Акимова и в Московском театре имени Маяковского у Николая Охлопкова. А потом пришла в Щукинское училище и сосредоточилась на педагогической работе — преподавала почти 40 лет. Марина Александровна набрала и выпустила несколько курсов, включая наш, любимый и мною, и зрителями: многие мои однокурсники стали прекрасными артистами. Так вот, она учила, что актер должен быть ответственным за то, в чем снимается, какие мысли несет зрителям с экрана, что декларирует со сцены. И я тоже всецело это поддерживаю. Дай бог стремиться к такой цели...
Коментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.