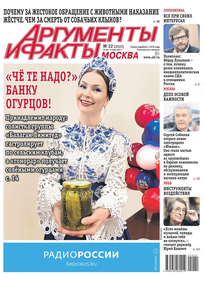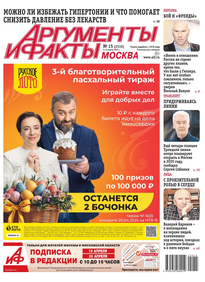Приближающийся юбилей Победы — повод вспомнить о том, как восстанавливали разрушенные школы и развивали образование после войны. Да так, что это вывело страну в научно-технологическое лидерство. Этот опыт нам был бы полезен и сейчас.
«Советское образование — лучшее в мире. СССР выиграл космическую гонку за школьной партой». Эту фразу приписывают президенту США Джону Кеннеди. На самом деле это очень вольный пересказ его речи, которую он произнес еще в его бытность сенатором в феврале 1958 года на ежегодном банкете выпускников колледжа Лойола в Балтиморе. Вроде как подражание известной фразе Бисмарка, который тоже говорил, что во франко-прусской войне прусский учитель победил австрийского.
Более точный перевод Кеннеди выглядит так: «Мы спокойно предположили, что марксистская догма и тоталитарные репрессии произведут только тупые умы и нелепые теории (такие, как генетика Лысенко). Но сегодня мы смеемся не над спутниками... Наше истинное сожаление заключается не в том, что русские украли у нас эти секреты, а в том, что мы не смогли украсть их у русских… Наши ученые восхищаются советскими спутниками. Наши авиационные инженеры завидуют их межконтинентальным реактивным бомбардировщикам. Наши физики-атомщики были поражены их атомными реакторами».
В 1959 году подробному анализу советской системы образования была посвящена специальная аналитическая записка НАТО, где говорилось, что странам Запада стоит «всерьез задуматься над заимствованием и адаптацией советских методов».
Почему вдруг на Западе кинулись так пристально изучать, сколько уроков физики, химии, математики в советских школах, каково число студентов в вузах и учителей в школах, что написано в советских учебниках, понятно. В 1957 году Советский Союз запустил первый в мире космический спутник.
Однако, подсчитывая разницу в количестве часов и программах, американцы тогда вряд ли уловили главное, что позволило нашей стране выйти в лидеры в космосе, ядерной физике, математике. А об этом неоспоримом лидерстве говорит огромное количество открытий и изобретений и внушительный список всемирно известных советских ученых. Первая в мире АЭС (1954 г.), серийный сверхзвуковой истребитель (МИГ), подводная лодка с баллистическими ракетами (1955 г.), реактор на быстрых нейтронах (1955 г.), межконтинентальные баллистические ракеты (1953-1957 гг.), атомный ледокол (1959 г.), первый искусственный спутник Земли (1957 г.), полет человека в космос (1961 г.). Это лишь небольшой список, где мы были первыми.
«В отличие от американцев, мы не так аккуратно ищем выгоду, — рассказал aif.ru заслуженный учитель РФ, автор учебников по математике Александр Шевкин. — Они считают, что невыгодно учить всю массу подростков, всем можно давать кое-как, но выдернуть несколько отборных колосков и учить более тщательно. В результате они не могут обеспечить себя достаточным потоком ученых и инженеров. Да и не хотят, им выгоднее покупать за рубежом уже выученных, в которых вложили много средств, терпения. Академик Арнольд на рубеже веков беседовал с представителями „Боинга“, который сейчас терпит много всяких неприятностей. И они были в ужасе от того, что наша страна после перехода к светлому капитализму взяла за ориентир американскую школу: мол, вы же угробите образование! И они не о нашем образовании пеклись, а о том, где они будут брать инженерные кадры, если в России все рухнет. Так вот, у нас не практический, а стратегический подход. Мы выращивали не отдельные колоски, а старались взрастить все поле. Да, это дорого, но благородно, потому что мы даем каждому ребенку возможность обучаться по хорошей программе. А не говорить ему с четвертого класса: ты неспособный, будешь дворником, поэтому вот тебе урезанный курс».
Учитель — это почетно
А как научить всех? По словам преподавателя, мотивированных детей очень мало, среди всех учеников в мире таких около 10%, независимо ни от каких условий — таковы природные данные. Но на то и нужен грамотный учитель — создать интерес к учебе, поддержать в случае сложностей, чтобы не опустились руки.
Стоит отметить, что в 1950-1960-е годы профессия учителя была очень почетной. В педагоги часто шли способные люди, горевшие идеей нести просвещение в массы. Про школу снимали фильмы, сочиняли книги и песни. Ученые и инженеры тоже получали сравнительно неплохие зарплаты, что служило мотивацией к поступлению в вузы у молодежи. Да и по партийной лестнице можно было продвинуться, только повышая уровень образования.
Еще одна важная черта той советской школы — детей пытались развивать во всех направлениях: музыка, рисование, спорт, моделирование. В СССР работали тысячи дворцов и домов пионеров, станций юных техников, юных натуралистов и др.
«Так что мы пахали очень широко в расчете, что не можем покупать мозги — это стратегически опасно, — продолжает педагог. — Как было стратегически опасно отказываться от своего авиастроения только потому, что дешевле и проще летать чужими самолетами. А там кнопку нажали — самолеты не полетели. Теперь занимаемся восстановлением. Ясно, что это обходится уже дороже, но что делать. Учимся на своих ошибках».
Сотрудники Московского государственного педуниверситета Анна Орлова и Светлана Ширяева в своей статье «Образовательная политика СССР в послевоенные годы» отмечают, что важным событием было учреждение уже с октября 1943 года Академии педагогических наук РСФР. Там проводили исследования в области образования, создавали учебные программы, проверяли учебники. К середине 1950-х в программу школ вводится обучение в школьных мастерских и на пришкольных участках. Ученики применяли знания на практике — измеряли участки, мастерили простейшие приборы, наблюдали за природой, выращивали сельхозкультуры и т. д.
Учить и воспитывать
«Образование в СССР было важной частью государственной политики, — считает народный учитель России, профессор РГПУ им. Герцена, замдиректора физико-математического лицея № 239 С.-Петербурга Сергей Рукшин. — В 1960-х созданы специализированные физико-математические школы, школы-интернаты для одаренных детей при московском, ленинградском, новосибирском, киевском университетах. Выпускники техникумов могли стать отличными инженерами. Например, мой отец прошел путь от ремесленного училища до техникума и вуза и дорос до главного конструктора конструкторского бюро, связанного с оборонной тематикой. Такой карьерный путь был вполне доступен для людей, которые вышли из войны с совершенно разным уровнем образования. Люди шли в любимую профессию и отдавали ей все силы. Сейчас идут, куда хватит баллов ЕГЭ, не собираясь работать по профессии. Поэтому у нас не хватает инженеров, зато огромное количество официантов и барменов с высшим образованием».
Многие сейчас критикуют советское образование за излишнюю идеологизированность. Идейно-политическое воспитание, и правда, было поставлено широко. Но, с другой стороны, учить и воспитывать совсем без идеи тоже нельзя. «Человек, который получил диплом и думает, что ему оказали образовательную услугу, воспринимает город, в котором живет, страну, как место работы. А его, коли не нравится, можно и поменять. Вот почему в советской школе большое внимание уделялось таким предметам, как история, литература, они воспитывают понятие родины, передают нравственные основы следующему поколению», — подчеркивает Рукшин.
Образование в СССР рассматривалось не в качестве услуги, а как одна из важнейших сфер в жизни общества. И это тоже одна из причин технологического лидерства нашей страны в послевоенные десятилетия.
Как учились в советских школах в середине XX века?
Экзамены — в каждом классе
В 1950-х — начале 1960-х годов школьникам нужно было сдавать экзамены, чтобы перейти в следующий класс. Несдавших оставляли на второй год (только к концу 1960-х годов сверху появились рекомендации учителям постепенно свести количество второгодников к нулю).
В 1-3 классах перевод на следующий год осуществлялся по итогам успеваемости и годовых оценок по русскому языку и арифметике не ниже «3».
После 4 класса сдавали экзамены по русскому языку и арифметике устно и письменно.
В 5 и 6 классах — переводные экзамены.
В 7-м — выпускные по восьми предметам: русский и литература (изложение и устная часть), алгебра, геометрия, история, Конституция СССР, физика и устно география (семилетка была обязательной, далее — по желанию).
Со свидетельством об окончании семилетки можно было поступать в восьмой класс без экзаменов или средние профучилища на конкурсной основе, отличники принимались без экзаменов.